Теории культурного доминирования масс-медиа
Культурный империализм и ранние работы в области критики доминирования
Главной темой для культурного империализма как подхода к изучению медиа является глобализация культурных продуктов, то есть проникновение культурных продуктов развитых стран (кино, литература, музыка и др.) на рынки менее развитых стран. В поле внимания ученых попадает неравномерный обмен информацией и культурой в масштабах планеты: бедные страны не в состоянии конкурировать с богаты- ми, в результате на мировом рынке доминируют стили жизни, культуры, СМИ развитых стран. Все это вызывает критику со стороны представителей политической экономии медиа, которая воспринимает массмедиа как один из продуктов доминирования, то есть властных отношений распределения (по определению неравномерного)
К подобного рода рассуждениям принадлежат работы Д. Лернера, И. де Сола Пула и ряда других ученых из Массачусетского технологического института, диффузионизм Э. Роджерса и, например, озвученное П. Лазарсфельдом на конгрессе исследователей общественного мнения новое направление исследований – международная коммуникация.
Концепция «культурного империализма» становится реакцией на все эти процессы, на идеи доминирования и модернизации при помощи медиа. Впервые тезис о культурном империализме выдвинул профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Герберт Шиллер в книгах «Коммуникация и культурное доминирование» и «Массовые коммуникации и американская империя». Идея культурного империализма зачастую подкрепляется исследованиями монополизации американских медиарынков, приватизации общественного мнения и т. д., что вылилось в отдельное научное направление.
Для противостояния политике культурного империализма Шиллер предлагает странам вырабатывать национальные политики в области защиты национальной идентичности, или национальные культурные политики
Культурное доминирование и новые измерения
К концу 1980-х годов в мировых медиаисследованиях наблюдается смещение акцента на изучение процессов потребления информации. Не обошла эта тенденция и теоретиков культурного доминирования. Многие из этих работ стали впоследствии основой для опровержения культурного доминирования как такового. Их авторы утверждали следующее: поскольку существуют различные способы понимать одну и ту же информацию и по-разному ее толковать, зритель или слушатель не зависит от источника сигнала и для него абсолютно неважно, американский фильм он смотрит или снятый в той стране, где он живет.
Во второй половине 1990-х годов в политической экономии глобальных медиа появляются новые подходы. Ученые начинают не просто констатировать глобальную гегемонию преимущественно американских медиафирм, а изучать формы приобщения к ней локальных индустриальных и институциональных акторов. Тристан Маттелар, сын Армана Маттелара, в частности, изучает реакции местных правительств и локальных медиаинститутов в целом на влияние зарубежного телерадиовещания. Для Маттелара-младшего любой трансграничный медиаконтент, если он проникает в информационно герметичное пространство, не может не вызывать определенных социальных изменений в политике местных властей, которые оказываются заложниками внешнего давления.
В дальнейшем, в коллективных монографиях «Глобализация медиа против цензуры» и «Формы аудиовизуального пиратства: скрытые пути культурной глобализации», вышедших под редакцией Т. Маттелара, развивается мысль о локальных реакциях на глобальное давление.
Массмедиа и концентрация производства культурной продукции
В 1973 г. Герберт Шиллер издает книгу «Mind Managers» («Манипуляторы сознанием»), где делает исчерпывающее описание глобальной системы медиакорпораций, которые, за счет их гиперконцентрации и принадлежности к американской корпоративной коммерческой системе, фактически создают монополию по управлению мыслями людей. Левая направленность критики со стороны профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего стала, по всей вероятности, главной причиной того, что книга Шиллера оказалась переведена на русский язык и издана в 1980 г. в СССР, наряду с работами двух других яростных критиков корпоративной системы медиакапитала – Ноама Хомского и Бена Багдикяна.
Николас Гарнэм определяет ключевую функцию медиа в монополистическом капитализме как политическое и идеологическое доминирование, которое действует через экономические механизмы. Вместе с тем нельзя говорить об отношениях между собственниками медиа и самими медиа как о полностью детерминированных рыночными механизмами или механизмами обмена, поскольку медиа всегда реализуют в том или ином виде властную функцию, которую невозможно свести в чистом виде к отношениям обмена. Таким образом, стремление содержать СМИ в одних руках детерминировано в первую очередь властными отношениями.
Николас Гарнэм определяет ключевую функцию медиа в монополистическом капитализме как политическое и идеологическое доминирование, которое действует через экономические механизмы. Вместе с тем нельзя говорить об отношениях между собственниками медиа и самими медиа как о полностью детерминированных рыночными механизмами или механизмами обмена, поскольку медиа всегда реализуют в том или ином виде властную функцию, которую невозможно свести в чистом виде к отношениям обмена. Таким образом, стремление содержать СМИ в одних руках детерминировано в первую очередь властными отношениями.
В 1988 г. Эдвард Херман и Ноам Хомский издают книгу «Создание согласия: политическая экономия массмедиа», в которой предлагают новую модель пропаганды. Если прежде, согласно предыдущим представлениям о пропаганде, данный феномен рассматривался как сознательное распространение сообщений с определенными целями, то для Хомского и Хермана имеет значение та институциональная структура, которая заставляет массмедиа формировать определенную идеологию. Хермана и Хомского занимает система производства согласия и убеждений. Основными фильтрами информации, то есть условиями, формирующими идеологию в современной капиталистической системе массмедиа, являются, с точки зрения этих авторов, следующие:
• контроль собственности массмедиа;
• влияние на источники финансирования медиа;
• контроль источников информации;
• запугивание журналистов и владельцев медиа;
• антикоммунизм и эксплуатация страха.
• контроль собственности массмедиа;
• влияние на источники финансирования медиа;
• контроль источников информации;
• запугивание журналистов и владельцев медиа;
• антикоммунизм и эксплуатация страха.
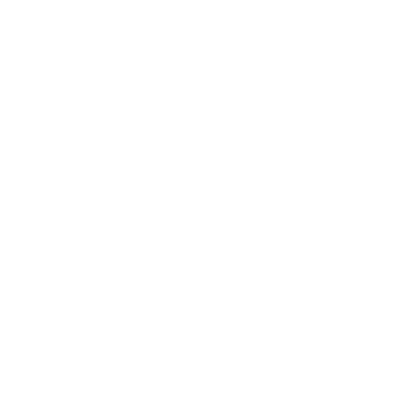
Контроль собственности
связан с тем, что массмедиа принадлежат преимущественно крупным корпорациям, поэтому они гораздо больше стеснены в возможностях раскрывать любую информацию
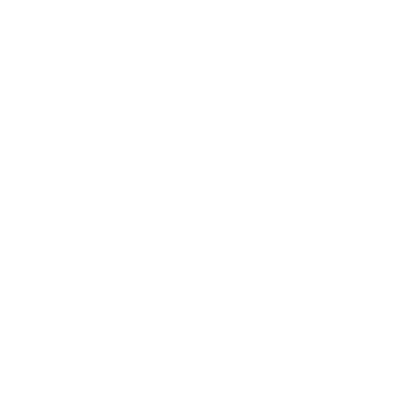
Источники финансирования
основным видом блага, которым торгуют коммерческие медиа, является не контент, продаваемый аудитории, а аудитория, продаваемая рекламодателю
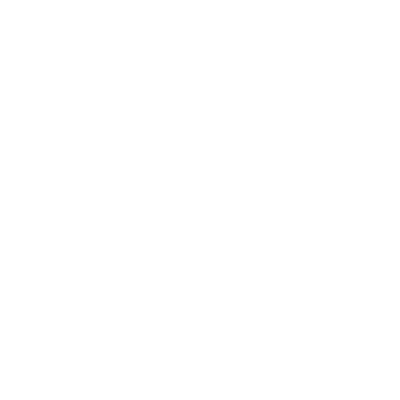
Контроль источников информации
заключается в реципрокности отношений между медиа и крупными правительственными официальными органами, предоставляющими информацию
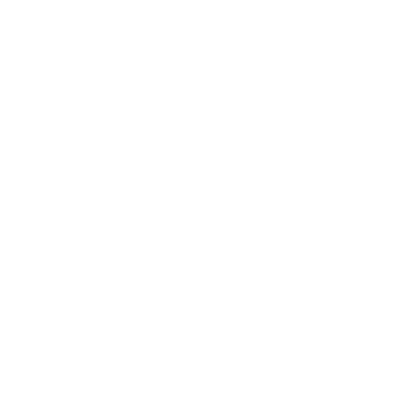
Запугивание
это внешнее давление на медиа с целью не допустить распространения той или иной информации, в качестве которого используются различные телефонные звонки, письма, угрозы, публичные слушания и проч
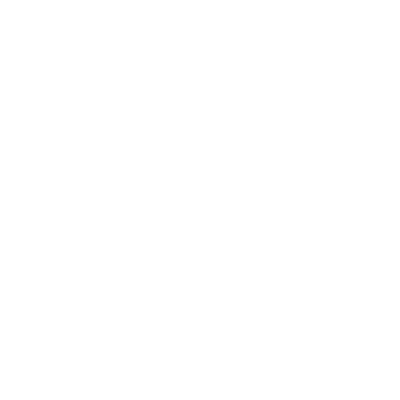
Антикоммунизм
связан с эксплуатацией медиа различных коллективных страхов, фобий и общественных настроений панического характера
Критика концентрации массмедиа и, как следствие, всеохватывающей их коммерциализации является еще одним неотъемлемым элементом политической экономии массмедиа
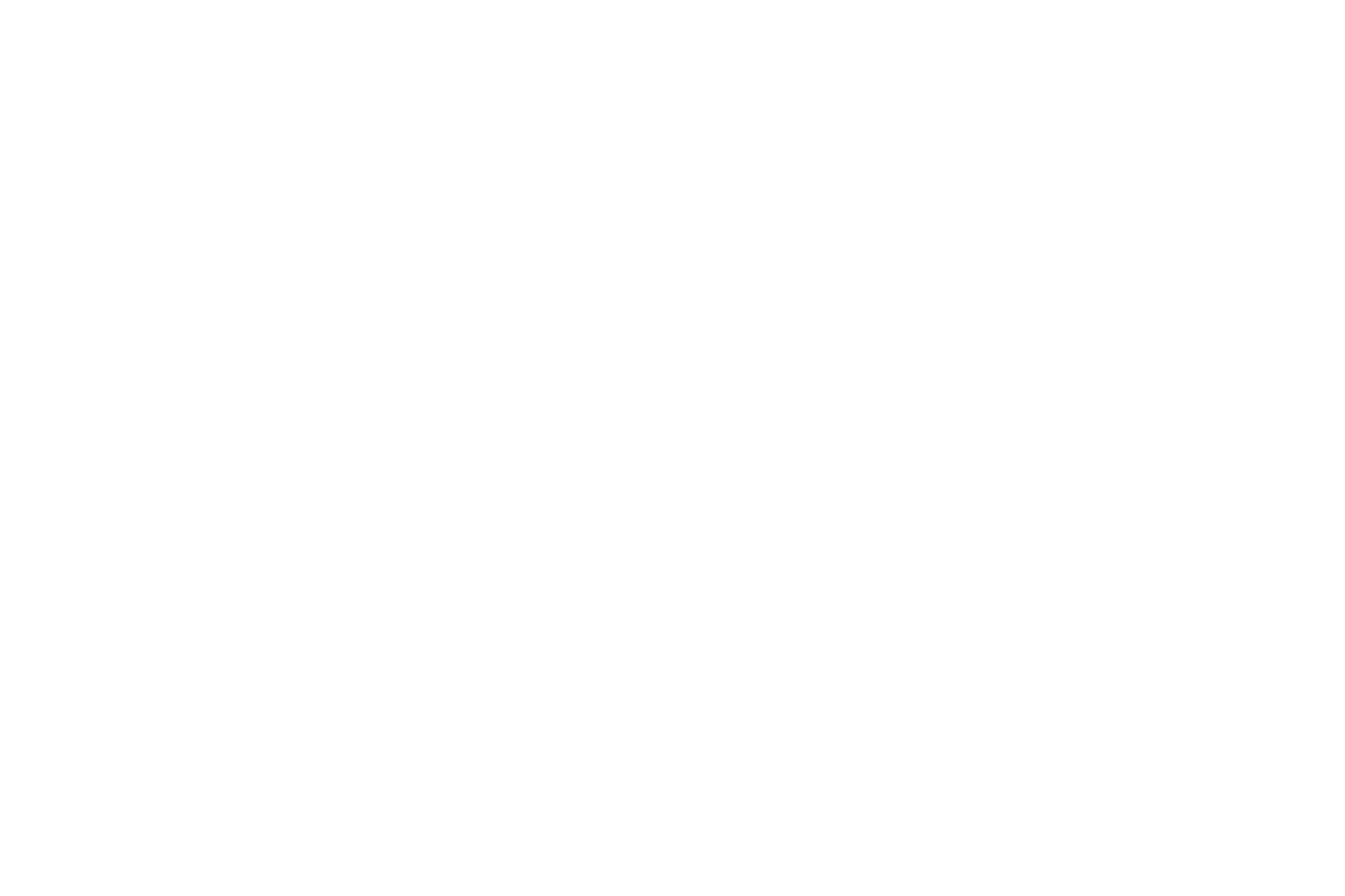
Культурные индустрии
Теория культурных индустрий и их разновидности – индустрий содержания, по сути, является политэкономическим продолжением критической теории
Интерес к этим исследованиям возник в 1970–1980-х годах, преимущественно в Европе, и, пожалуй, главной причиной такого интереса является произошедшая в этот период массовая либерализация аудио- визуального сегмента медиаиндустрии.
Теория культурных индустрий возникает во Франции, в работах ученых из университетов городов Ренн и Гренобль, ее основоположником являлся профессор Бернар Мьеж (ныне – почетный профессор Университета Гренобля). В Великобритании ее адептами становятся Николас Гарнэм и Грэхэм Мёрдок, а позже (2000-е годы) – Дэвид Хезмондалш.
В 1978 г. группа французских ученых по заказу Национального центра научных исследований и Национального комитета по кинематографии публикует доклад «Капитализм и культурные индустрии», который опровергает идею монолитности культурной индустрии, свойственную Франкфуртской школе.
В 1978 г. группа французских ученых по заказу Национального центра научных исследований и Национального комитета по кинематографии публикует доклад «Капитализм и культурные индустрии», который опровергает идею монолитности культурной индустрии, свойственную Франкфуртской школе.
Таким образом, появляются следующие категории продуктов, которые относят к сфере культуры:
1
воспроизводимые, созданные без участия творческих работников (музыкальные инструменты, устройства для культурной практики);
2
воспроизводимые, созданные с участием творческих работников (костяк культурных индустрий): музыка, кино, книги и проч.;
3
частично воспроизводимые, созданные при участии творческих работников, но с искусственно ограниченным тиражом, в результате чего продукты являются значительно более дорогими, то есть намеренно эксплуатируется принцип редкости (особенные альбомы и книги по искусству с ограниченными тиражами, эстампы и проч.);
4
рыночные продукты, но не являющиеся воспроизводимыми: театральные выступления, спектакли, исполнительские искусства и проч. Все эти произведения так или иначе для каждого представления требуют уникальной актерской игры, поэтому не являются воспроизводимыми и, следовательно, относятся к категории «культурные индустрии» условно, однако безусловно являются частью экономики культуры
В 1990-х приведенный выше перечень пополняется следующими категориями:
1
медиатизированные социальные обмены (поисковые сервисы, социальные медиа и проч.);
2
свободные для потребителя услуги (коммерческое ТВ, некоторые категории музеев);
3
нерыночные продукты, созданные на основе принципа воспроизводимости (бесплатные представления, государственные медиа – все виды продуктов, не относящихся к категории индивидуальных благ)
Культурные продукты, с точки зрения представителей данной теории, коммерциализируются двумя ключевыми способами, или на основе двух моделей – издательской и потоковой.
Издательская модель предполагает, что продукты продаются на рынке и их оплачивают конечные потребители.
Потоковая модель, которая в первую очередь была характерна для аудиовизуальных индустрий – телевидения и радио, предполагает двойную (или сдвоенную, как ее назовет один из самых известных со- временных специалистов по экономике медиа Роберт Пикар) модель, когда потребителю бесплатно предлагается контент, а затем привлеченная таким образом масса потребителей продается как целевая аудитория рекламодателю для распространения сообщений о его продукции.
Потоковая модель, которая в первую очередь была характерна для аудиовизуальных индустрий – телевидения и радио, предполагает двойную (или сдвоенную, как ее назовет один из самых известных со- временных специалистов по экономике медиа Роберт Пикар) модель, когда потребителю бесплатно предлагается контент, а затем привлеченная таким образом масса потребителей продается как целевая аудитория рекламодателю для распространения сообщений о его продукции.
Главным тезисом теоретиков культурных индустрий и индустрий содержания является то, что основная особенность культурных продуктов – в непостоянном характере использования, и это отличает их от других индустриальных продуктов капиталистического общества.
Авторы «Капитализма и культурных индустрий» выделяют следующие стратегии снижения риска производителей:
Диалектика альбома и каталога
Вместо продажи отдельного культурного продукта (предположим, музыкальной композиции) производители предлагают целый сборник (альбом), тем самым покрывая затраты на выпуск нескольких неудачных песен, входящих в альбом, хитами, имеющими коммерческий успех. Эта модель зачастую применяется и в книжном секторе, где бюджетирование делается сразу на книжную серию, а не на одну книгу
Постоянная инновация
Производители культурных продуктов вынуждены безостановочно обновлять «звезд» и искать новые эстетические формы, чтобы поддерживать неизменный потребительский интерес
Всеобщий подряд
Для того чтобы застраховаться от рисков, связанных с постоянной инновацией, крупные представители сектора культурной индустрии поощряют работу мелких фирм, зачастую более близких к артистической среде и более точно подмечающих общественные тенденции. Несмотря на высокую концентрацию культурных продуктов в сфере дистрибуции, этот феномен не распространяется на сферу производства контента. В культурных индустриях крупные и мелкие фирмы, скорее, работают по принципу партнерства
Система звезд
Использование ярких имен для привлечения внимания аудитории к культурным продуктам
Творческие команды
Содержание крупными мейджорами, то есть крупными медиакомпаниями пре- имущественно в сфере культурных индустрий, так называемых ферм – многочисленных групп творческих работников, получающих незначительные заплаты, однако всегда готовых при необходимости включиться в работу над отдельным творческим проектом
Критика теорий технологического детерминизма
Николас Гарнэм в 1990-е годы, а позже Кристиан Фуксподвергают резкой критике модернизационную парадигму, предполагающую, что новые технологии, или
новые медиа, а также так называемые социальные медиа способствуют эмансипации обществ, их демократизации, уходу от традиционализма. Для этих исследователей новые медиа, технологии, социальные сети – очередные пространства капиталистического неравенства, никак не подвергающие сомнению сам факт существования и базовую логику капитализма.
новые медиа, а также так называемые социальные медиа способствуют эмансипации обществ, их демократизации, уходу от традиционализма. Для этих исследователей новые медиа, технологии, социальные сети – очередные пространства капиталистического неравенства, никак не подвергающие сомнению сам факт существования и базовую логику капитализма.
Для Фрэнка Уэбстера главной проблемой в теориях информационного общества, и в первую очередь – в работах М. Кастельса, является рассмотрение информационного общества как чего-то радикально нового – будто современное общество не имеет никаких общих элементов с тем, что было раньше. Николас Гарнэм критикует Кастельса за шумпетерианскин подход, который смешивает прямое влияние новых технологий – например, роботизации – на производительность труда, косвенное влияние новых технологий – например, компьютеризации – на организацию труда и оптимизацию производства, учета и планирования и, наконец, косвенное влияние новых технологий на развитие знания как некоей абстрактной позитивной сущности
В теории сетевой власти М. Кастельс представляет современный Интернет как среду конфликта между глобальными мультимедиаконгломератами, стремящимися коммерциализировать Интернет, и креатив- ной аудиторией, цель которой установить своего рода гражданский контроль, возможный благодаря автономии, свойственной массово-индивидуальной коммуникации. Стратегия корпораций в сфере Web 2.0 заключается в том, чтобы продавать доступ к свободе в обмен на то, чтобы быть рекламными мишенями и делать приватное пространство более уязвимым.
Реальные инструменты Web 2.0 – не продажа доступа к свободе, а предоставление пользователям бесплатного доступа в обмен на продажу их и как потребителей, и как производителей контента рекламодателям и иным сторонам для создания дохода. Именно такое критическое видение идей «Власти коммуникации» предлагает Кристиан Фукс.
Профессор Вестминстерского университета Кристиан Фукс предлагает политико-экономическую критику теории Генри Дженкинса о партисипативной, или конвергентной, культуре. Как пишет Фукс, Дженкинс игнорирует ряд понятий, таких как собственность медиа, капитализм как социальный строй и класс как социальное разделение. Для него партисипативная культура – это просто возможность индивидов встречаться онлайн и делиться контентом. Однако партисипативность предполагает гораздо более сложную конструкцию социального и политического участия, и эта конструкция в концепции Дженкинса никак не представлена.
Попытку вписать партисипативную культуру в политические теории предпринял Нико Карпентье, однако Фукс критикует его за игнорирование политико-экономического аспекта и, в частности, проблемы собственности и корпоративного контроля над медиа и партисипативными платформами
В работах критических теоретиков современная онлайновая коммуникационная среда предстает как система, вписанная в капиталистические отношения, осуществляющая эксплуатацию теперь уже не просто работников индустрии, но и самих потребителей, которые становятся просьюмерами, то есть производящими контент потребителями, и полностью лишены приватности, потому что за ними перманентно наблюдают и продают собранную информацию потребительским компаниям.
Паоло Гербаудо в результате эмпирического исследования делает вывод о том, что Интернет порождает движения без лидеров, неспособные на подлинные политические действия, но создающие «хореографический протест», который заключается в том, чтобы организовать протестные акции, снабдить участников инструкциями о том, как действовать, какие эмоции выражать.
В схожей логике мыслят Лэнс Беннетт и Александра Сегерберг, которые разделяют логику коллективного действия (logics of collective action) и логику коннективного действия(logics of connective action).
В схожей логике мыслят Лэнс Беннетт и Александра Сегерберг, которые разделяют логику коллективного действия (logics of collective action) и логику коннективного действия(logics of connective action).
Бодрияр о деятельности СМК в современном обществе
Подвергая тотальной критике нынешнее общество, Ж. Бодрийяр уделяет особое внимание проблеме медиа, с учетом того, что они, в условиях современности, приобрели «вселенский» характер. Согласно французскому философу, социальное бытие сегодня представляет собой систему принуждения к бесконечному и избыточному потреблению. При этом человек потребляет не вещи, а знаки и образы, отсылающие, опять же, не к реальным вещам, а к другим знакам и образам, которые в своей совокупности полностью заменяют реальность. В контексте такого подхода значимость анализа средств массовой информации трудно переоценить.
Согласно Ж. Бодрийяру:
«характерной чертой масс-медиа является то, что они предстают в качестве антипроводника, что они нетранзитивны, что они антикоммуникативны» в том смысле, что механизмы их действия противоречат идее коммуникации как таковой. Истинный коммуникативный акт подразумевает некий обоюдный обмен, некое взаимодействие. Современные же медийные средства, сообщения которых вовсе не предполагают ответа, превратили человека в совершенно инертного потребителя, отстраненного от процессов, происходящих в обществе, и не нуждающегося в настоящем диалоге. Французский философ утверждает, что радио, кино и телевидение вытеснили из социума живое, подвижное слово, которое может быть высказано и возвращено в качестве ответа. Только такое слово является единицей полноценного общения. Помещенное на экран, слово становится призрачным и пустым.
Ж. Бодрийяр считает безмолвие масс самой главной проблемой современности. Массы молчаливы, так как они не способны к рефлексии, им нечего сказать, и они никак не выражают себя. Соответственно, медийные средства заняты не репрезентацией общественного мнения, а симуляцией существования последнего. Сегодня только благодаря кино и телевидению люди узнают о своих предпочтениях в любой сфере – от политики до одежды.
Ж. Бодрийяр полностью согласен с идеями Г.М. Маклюэна, который утверждает, что отличительной чертой новой, электронной эпохи является преобладание «тактильной коммуникации». В рамках прошлой культуры существовала неоспоримая дистанция между созерцаемым и созерцающим. Современный же человек, скорее, не смотрит на объект, а «ощупывает» его взглядом. Таким образом, нивелируется дистанция между глазом смотрящего и образом на экране. «Мы бесконечно приближаемся к поверхности экрана, наши глаза словно растворяются в изображении
Ж. Бодрийяр, анализируя феномены кино и телевидения, раскрывает следующие особенности современных средств массовых коммуникаций: однонаправленность, антикоммуникативность, необъективность, гиперреалистичность и др. Роль таких медийных средств, интенсивно воздействующих на социум, заключается в производстве зрелищных, но лишенных смысла сообщений; формировании определенного мировоззрения и образа жизни у членов общества; создании социально пассивной и легко управляемой массы потребителей; отдалении индивидов от социальной действительности и погружении их в псевдореальность, или гиперреальность; симуляции существования, по сути, утраченных социальной, политической и культурной сфер.
